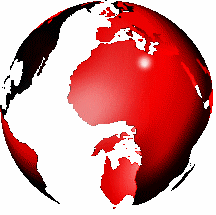Далеко не всем в Грузии нравятся результаты реформ. А многим из тех, кто ничего не имеет против результатов, не нравятся методы, которыми проводились реформы. Что ставят в вину Саакашвили и его команде? И в чем видят причины поражения команды реформаторов на последних парламентских выборах?
Далеко не всем в Грузии нравятся результаты реформ. А многим из тех, кто ничего не имеет против результатов, не нравятся методы, которыми проводились реформы. Что ставят в вину Саакашвили и его команде? И в чем видят причины поражения команды реформаторов на последних парламентских выборах?
Именем революции
Чтобы понять, за что тут многие ненавидят ранее горячо любимого Мишико, нужно вспомнить о том, как проводились грузинские реформы. О том, что, вводя либеральные ценности, власти особо не либеральничали.
— Назначался новый министр и ему говорили: «Бери все полномочия, которые тебе нужны, и никто с тебя ничего не спросит», — рассказывает руководитель Института стратегии управления, экс-глава аппарата Государственной канцелярии Кабинета Министров Грузии Петре Мамрадзе. — В Грузии царило революционное право. Министр приходил в министерство и заявлял — все сегодня пишут заявления об уходе. Потом он и несколько его доверенных лиц начинали по-новому комплектовать штат сотрудников.

— На достаточно серьезных должностях находились этакие комиссары от Национального движения (партия Михаила Саакашвили – ред.), которые наводили политический порядок, — считает руководитель «Центра глобальных исследований», экс-омбудсмен Грузии, публицист и журналист Нана Девдариани.
Вслед за комплектацией новых штатов организаций начинались новые чистки. Против чиновников специально устраивались провокации, им предлагали взятки и затем безжалостно сажали в тюрьму тех, кто брал. Сажали к тем самым ворам в законе, которые уже сидели на общих основаниях, лишенные в результате реформ пенитенциарной системы возможности управлять своими подручными по мобильным телефонам, сидя в комфортабельных камерах с телевизором. В тюрьмах вспыхивали бунты, которые жестко подавлялись властями.
— Реформаторы действовали по принципу «цель оправдывает средства», – подчеркивает Петре Мамрадзе.
Есть даже печальные параллели с СССР тридцатых — в том числе и западные эксперты писали о так называемой «тройке» или «ночном правительстве», в которое входили ближайшие сподвижники Михаила Саакашвили – на тот момент министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, глава МВД Вано Мерабишвили и министр юстиции Зураб Адеишвили. Вплоть до 2006 года «тройка» заседала по ночам и принимала решения, о которых с утра порой не знал сам премьер-министр Зураб Жвания.
— С таким подходом к решению задач режим не мог не перерасти в авторитарную клептократию, что и произошло в итоге в Грузии, – убежден Петре Мамрадзе.
Есть и более радикальные мнения. Саакашвили и его команду обвиняют в том, что, победив коррупцию на среднем и нижнем уровнях, они сами погрязли в коррупции.
— У нас господствует идеология лжи, — говорит Нана Девдариани. — Саакашвили и его соратники обогатились баснословно, правда, все эти деньги выведены в оффшоры. Они победили собственный народ и забрали все себе.
Правда, достижения в реформировании госорганов, полиции, признают даже многие ярые противники пока еще действующего президента Саакашвили.
Подконтрольный бизнес
Уже с 2007 года власть стали упрекать в попытках взять под контроль различные бизнесы. Технология, судя по тому, что рассказывают, использовалась примерно такая. Принималось так называемое «государственное решение» — это словосочетание вошло тогда в моду и произносилось без иронии. Например, государственное решение по сахару. В Грузии об этом рассказывают так: был в стране единственный сахарный завод, и когда он попал под контроль соратников президента, было принято решение запретить импорт, чтобы контролировать цену. Такое же решение принималось по муке, по другим видам продукции.
В результате приближенные к власти бизнесмены получали преференции.
Еще один метод — уголовное преследование бизнесменов. Многие бизнесы, якобы, отбирались у собственников, переписывались на государство или на все тот же «ближний круг». Многие эксперты утверждают, что для этого в последние годы в тюрьмах в полной мере использовалась система пыток. Называют цифры – в стране около 300 тысяч человек, или 10% от экономически активного населения, пошли на так называемую сделку со следствием, отдав государству все свое имущество, свой бизнес, чтобы избежать пыток в тюрьмах.
— Когда я была омбудсменом, максимальное количество заключенных в наших тюрьмах составляло 6 700 человек, — рассказывает Нана Девдариани. — И я тогда говорила, что это катастрофа. После революции эта цифра постепенно увеличилась до 26 000 человек. За 9 лет через тюрьмы прошло от 250 000 до 300 000 человек. Многие их них оформили процессуальное соглашение, отдав свое имущество.
— Каждое утро по одному и тому же адресу приходили бизнесмены и с радостью и энтузиазмом переоформляли свой бизнес на государство или на приближенных к руководителям государства лиц, — продолжает Нана Девдариани. — И сегодня люди ждут от новой власти возврата имущества.
Правда, ждут пока безрезультатно. Новая власть почему-то до сих пор ничего никому не вернула.
— Противозаконными методами были получены результаты реформ, которыми мы можем гордиться со всеми основаниями, — говорит Петре Мамрадзе. — В результате начались демонстрации против режима Саакашвили. Конечно, были на них и уволенные коррумпированные полицейские, и отстраненные от кормушки чиновники правительства Шеварднадзе. Но большинство — обычные люди, которые увидели, что справедливости в стране по-прежнему нет.
— После 2008 года не произошло ничего, чем мы могли бы гордиться — ни реформа образования, ни здравоохранения особых результатов не дали, — добавляет Петре Мамрадзе.
Власть развращает
Отчасти грузинские власти сами оказались заложниками ситуации, в которую себя загнали.
— Когда начинают поступать жестоко, ты не можешь завтра показать меньше воли, чем сегодня, — объясняет Нана Девадариани. — Тебя будут считать обессилевшим. Это и произошло к режимом Саакашвили, поскольку они избрали слишком легкий путь решения стоящих перед страной проблем.
Открытым остается вопрос — а были ли у Грузии альтернативы? Можно ли сломать хребет коррупции, действуя «убеждением и лаской»? Можно ли без потерь сократить никчемные и неэффективные государственные структуры, занятые перекладыванием бумажек с места на место и выдумыванием дурацких распоряжений? Наверное, теоретически, такой путь есть. Но, похоже, что для него необходима некая идеальная ситуация, которой в реальной жизни просто не бывает.
Хотя далеко не все в Грузии согласны с предъявляемыми главе государства обвинениями.
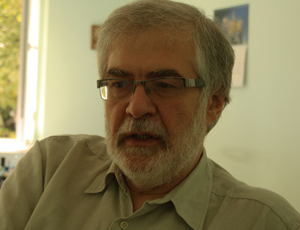
— Пока никаких серьезных доказательств того, что президент и правительство стали мафией или сказочно разбогатели, я не вижу, — говорит политолог, руководитель Кавказского института мира, демократии и развития (CIPDD) Георгий Нодия. — Саакашвили и его команда действительно проводили политику давления на бизнес в том смысле, что они жестко администрировали налогообложение. Это, понятное дело, не всем нравилось — ведь до них налоги не платили вовсе, платили только взятки. Еще, несмотря на либеральную философию, государство все же вмешивалось в стратегические направления. В том числе и вынуждая бизнес вкладывать деньги в проекты, важные для государства. Однако даже новые грузинские власти не могут не признать определенных достижений команды реформаторов.
Война
Еще один убийственный аргумент в руках противников Саакашвили – грузинско-российская война 2008 года. Она нанесла значительный ущерб экономике страны. Война «съела» Стабилизационный фонд и Фонд будущих поколений Грузии. Властям пришлось забыть о введении законодательного требования профицита бюджета, которое предлагалось ввести в Грузии. Война разогнала инфляцию, в результате чего пришлось отменить «инфляционный потолок», суть которого была в том, что если в течение четырех кварталов среднегодовой показатель прироста потребительских цен превышает 12%, глава Национального банка Грузии лишается своего поста. Да и объем иностранных инвестиций после войны заметно снизился.
В результате войны совокупный внешний долг Грузии составляет порядка 13 млрд. долларов. «Это то, что оставил нам Саакашвили», — говорят тут.
Трудно сказать, насколько справедливы обвинения, выдвигаемые против Саакашвили и его команды. Чтобы разобраться в этих хитросплетениях, в Грузии надо пожить подольше, чем несколько дней. Я встречался с экспертами и политиками из разных лагерей, поэтому их мнения порой диаметрально противоположны. И мне не раз вспоминалось услышанное в первый же день: «твои впечатления о Грузии будут зависеть от того, кто будет тебе рассказывать о нашей стране»… Поэтому я не буду стремиться навязывать кому бы то ни было однозначные выводы.
Разве что вот о чем подумалось – коалиция Бидзины Иванишвили выиграла у «авторитарного клептократа» Саакашвили в ходе выборов. И Саакашвили уходит с поста президента, отбыв два срока, положенные по Конституции. А мог бы, наверное, провести референдум и остаться. Например, «по многочисленным просьбам трудящихся». Или чтобы «не допустить отката от дела реформ». Мог же, особенно если хотя бы половина слухов о нем – правда? Но не провел, не остался. Значит, не все потеряно для Грузии, верно?
Нужная картинка
Но одним однозначным выводом, сделанным в Грузии, все же не могу не поделиться.
Формально все СМИ в Грузии независимы. Здесь вообще нет государственных СМИ – все они частные. Правда вам многие расскажут, что телеканалы в той или иной степени контролируются президентом Саакашвили или его приближенными. Как отмечали многие эксперты, за нужную картинку каналам списывают долги по налогам – такие вот формы господдержки.
Были и каналы «Имеди», «Рустави-2», которые были неподконтрольны власти. С ними боролись — кадры захвата силовиками студии «Имеди» несколько лет назад обошли весь мир. Так грузинская власть воевала с Бадри Патаркацишвили, которому принадлежал телеканал. Никого не оправдывая, отмечу лишь, что Бадри, в свою очередь, как успел, воевал с грузинской властью. Такие вот издержки информационных войн.
Так или иначе, но весь государственный PR был вложен в «картинку».
— Главное — получить нужную картинку на телевидении», говорил Саакашвили своему окружению, — рассказывает Петре Мамрадзе.
А вот газеты в стране были и остаются совершенно свободны. Их, как и радио, власть игнорирует полностью. Бывало, печатные СМИ писали про президента и его окружение такие враки, что аж глаза на лоб лезли, рассказывают эксперты. И ничего, никто и никак на это не реагировал.
Однако это — лишь описание системы координат. Речь, собственно, о другом. О том, что в погоне за картинкой в Грузии, похоже, забыли об информационном обеспечении реформ. Картинка-то была. А вот полноценного диалога с обществом, в процессе которого власть разъясняла бы людям, что она делает и что происходит, не было вовсе. Как мне показалось, часть нынешних грузинских проблем лежит именно в этой плоскости. Отсутствие информации рождает слухи и домыслы. А информационный вакуум – собственные трактовки происходящего, далеко не всегда соответствующие реальному положению дел. Как итог – непонимание, непринятие. И противодействие.
— PR реформ проводился совершенно неэффективно, — соглашается политолог Георгий Нодия. — Очень уж был велик разрыв между картинкой и окружающей действительностью. Никаких попыток реально объяснить, что она делает, власть не сделала. Они перерезали красные ленточки, но ничего не разъясняли обществу, считая, что народ все равно ничего не поймет. Это создало проблему устойчивости как самой команды Саакашвили, так и результатов реформ.
Так что, несмотря на «картинку», информационную войну грузинские власти, похоже, проиграли. Как, собственно, в свое время проиграли информационную войну Гусинскому и Березовскому российские реформаторы, что тоже привело к массе негативных последствий, плоды которых Россия пожинает и сегодня. Об этом следовало бы помнить потенциальным реформаторам в разных странах.
– Сегодня Саакашвили и его команда дошли до того, что упрекают народ. Мол, неблагодарный он оказался, — говорит Нана Девдариани. — Нельзя было говорить людям, что они, их отцы и деды все делали неправильно, нельзя было плевать людям в душу. Это и есть основная причина краха правительства Саакашвили.
По-моему, это тоже своеобразное эхо проигранной информационной войны.
Ну, а «трудные вопросы» о давлении на бизнес, об обвинениях в попытке создания государственных монополий и судьбе чайной отрасли мне удалось задать одному из главных идеологов грузинских реформ – экс-министру экономики и экс-министру по координации государственных реформ Грузии Кахе Бендукидзе. Интервью с ним станет следующим материалом из Грузии.
Материал подготовлен в рамках инициативы «Европейский диалог о модернизации с Беларусью» при поддержке фонда DANIDA