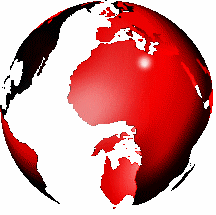Один из сегментов военно-политических процессов протекающих сегодня, составляют события в Азии и в непосредственной близости от Грузии. Эти явления с разной интенсивностью влияют на безопасность и развитие нашей страны. Если рассматривать их с точки зрения новой стратегической теории – «теории теней», то можно константировать, что тени всех этих событий падают на территорию Грузии, что является весьма опасным для нашего государства.
В данное время вокруг Грузии разворачиваются четыре различных международных военно – политических конфликта.
1. Аннексия Крыма Россией и военные действия в Восточной Украине. На сегодняшний день именно этот военно-политический процесс представляет наибольшую опасность для Грузии, т.к. данный конфликт представляет собой попытку России установить полный, тотальный контроль над геополитическим хартлендом, к которому относиться и Грузия. В этих военных действиях восточная Украина является для России северо-западным фронтом, а Грузия – южным фронтом. На протяжении последних трехсот лет Российская Империя уже третий раз пытается установить свой сюзеренитет на этой территории. В восемнадцатом веке она завладела сначала Крымом и выходом в Чёрное море, затем территорией нынешней западной Украины и только после этого упрочила свои позиции в Балтийском регионе. На рубеже 18 – 19 –х веков она вела войны на Кавказе. В результате, уже в середине 19-го века народы данного региона оказались полностью подчинены России. После этого Россия обратила свой взор на Центральную Азию. В начале 20-го века, после Октябрской Революции, Росийская Империя вновь начала завоёвывать сначала Крым и Украину, затем Кавказ и страны Центральной Азии. К сороковому году она завершила этот цикл присоединением Прибалтики. Сегодня мы наблюдаем начало третьего цикла и у нас есть все основания полагать, что после восточной Украины вновь встанет на повестку дня подчинение Южного Кавказа и Грузии как центральной страны этого региона. Гегемония в Украине даст возможность России решить одну из наиглавнейших стратегических задач и ещё более успешно диктовать свои условия Европе. Установление же контроля над Грузией позволит ей достигнуть важнейшей геополитической цели – контролировать весь хардленд и прежде всего южнокавказский энергетический коридор, котороый сегодня так актуален в силу того, что является альтернативным и независимым от России источником для Европы. Страны Каспийского региона и Центральной Азии практически потеряют возможность фомирования в отношении Европы независимой энергетической политики. Кроме того, в этом случае Россия сумеет установить прямую коммуникацию с Ираном, который сегодня, благодаря политике президента Рухани, может превратиться в недружественную для неё страну. В таком случае, Россия более успешно сможет поддерживать маргинальных духовных лиц и сторонников Ахмадинеджада на будущих выборах. Не приходиться сомневаться, что в случае их победы, Иран снова будет проводить радикальную антизападную политику. Одновременно, в этом случае, Россия сможет установить прямую коммуникацию с Турцией, которая в последние годы выдвинулась в лидеры ближневосточного региона и мусульманского мира, политика которой по отношению к Западу и НАТО носит явно антицентристкий характер. Это позволит России играть очень серъёзную роль на Ближнем Востоке и она, вне сомнения, постарается использовать это для приобретения дополнительных рычагов в энергетической политике по отношению к Западу.
Возникает вопрос – Что может предпринять Россия по отношению к Грузии в близжайшем будущем для достижения своих геополитических целей? Сегодня она уже не так сильна (и Запад уже не так слаб) как в 2008 году и вести боевые действия сразу на двух фронтах (в Восточной Украине, Крыму и в Грузии одновременно) она не сможет. Потенциал только Южного Военного Округа настолько велик по сравнению с нашим военным потенциалом, что России не представит труда добиться успеха на грузинском фронте, но, одно дело завовать территорию, а другое – её удержать. Учитывая сегодняшнее кризисное положение, последнее будет очень трудно осуществить. Россия не в состоянии вести длительную таласократическую (? К.А.) экономическую и политическую войну с Западом. Её стратегия основывается на краткосрочных телурократических(?) принципах и силовых методах. Конечно же Грузинское государство не сможет долго сопротивляться агресии, но, Запад не допустит установления полного господства России на этой территории. Если она перекроет данный регион, это будет означать полное фиаско Запада и очень тяжело отразится на его будущем.
Необходимо заметить, что в контексте глобальных военно-политических процессов, которые протекают на наиобширнейших пространствах мира, значимость Грузии, как государства, отодвигается на второй план – учитывается прежде всего географическое положение и ландшафт. Запад прежде всего интересует геграфическое положение Грузии. Именно поэтому, данная территория может превратиться в главную арену геополитической войны между Россией и Западом.
Исходя из этого, можно предположить, что Россия не будет применять стратегию голой силы по отношению к Грузии. Скорее всего, она будет действовать методами непрямых действий и асиметрической войны. В чём это будет выражаться? Оформление «аннексионных» договоров с Абхазией и Южной Осетией может оказаться одним из главных механизмов непрямой стратегии. Одновременно, претензии осетин на ущелье Трусо и район Степанцминда могут быть использованы для перманентных мелкомасштабных провокаций, в которых видимую роль будет играть осетинский национал-сепаратизм. Он не является международно признанным юридическим субъектом и Запад не сможет в полном масштабе применить по отношению к нему правовые инструменты. Вторым очагом напряжённости может стать Джавахетия. В новейшей истории Грузии эта карта ещё не была серъёзно разыграна, но у неё, несомненно, есть определённый потенциал.
В грузинском политическом пространстве пока-что не нашло адекватного отображения странное совпадение двух событий – заявления Эдуарда Кокоиты о претензиях осетин на ущелье Трусо и район Степанцминда и выступления представителя организации «Джавахк» в Москве, в котором он говорил о реальности угрозы распада Грузии и анексии Самцхе – Джавахети Турцией. Для предотвращения этого, по его мнению, армянское население региона должно приложить максимум усилий для отторжения его от Грузии. Данные заявления можно рассматривать как составные элементы непрямых методов и ассиметричных войн.
Заслуживают отдельного внимания тот факт, что Россия интенсивно благоустраивает перевалы Кавказского хребта – Аудхару, Клухорский, Мамисонский, Рокский, Казбекский, с горы Дикло на Кварели. Это означает, что она собирается перенести природную границу с Грузией на южные склоны Кавказского Хребта. Наряду с этим, Россия однозначно использует против Грузии также и «мягкую силу» – т.н. «Идею Трофимчука». Она заключается в том, что наш северный сосед должен втянуть в себя экономику Грузии (составляющую 0.7% экономики России), воздействовать на философию желудка грузинского населения и тем самым заглушить протест и сопротивление. Процесс этот, по мнению автора данной теории, несколько растянут во времени, но конечный эффект несомненно будет впечатляющим, поскольку цель обязательно будет достигнута. На сегодня картина такова – Россия вводит эмбарго на импорт товаров из стран Евросоюза и постсоветских государств и в тоже время львиная доля грузинского экспорта уходит именно в эту страну. Соответственно, наша экономика привязывается к России и это ставит нас в весьма уязвимое положение. Если Россия вздумает закрыть свой рынок для грузинских товаров, это очень больно ударит по нашей экономике. В 2008 году мы избежали катастрофы только лишь благодаря тем 4.5 миллиардам долларам, которые мы получили в качестве субсидий от Запада. В близжайшем будущем на подобную помощь рассчитывать не приходится. Дивиденты, которые должно принести соглашение с Евросоюзом и ожидаемая экономическая диверсификация – процесс растянутый во времени. Исходя из всего этого, можно заключить, что уровень безопасности экономики Грузии понижается, а коэффициент её уязвимости, наоборот, возрастает.
Очевидно, что на том географическом ландшафте, где расположена Грузия, полная победа одной глобальной силы влечёт за собой фиаско противоположной, поэтому ни одна из них не собирается уступать данную территорию. Поэтому, этот регион является одним из главных театров боевых действий современной геополитической войны.
2. Процесс образования Исламского Халифата в Сирии и Ираке и сопровождающие его боевые действия содержат большие риски для Грузии. Нужно отметить, что и здесь, как в России, история идёт по третьему кругу. Попытка создания политического объединения на основе Сунитского ислама Ханбалитского толка предпринимается уже в третий раз. Первый раз это постарался сделать религиозный лидер Саудитов Абд-аль-Ваххаб в 18-м веке. Под знаменем Ваххабизма он попытался объединить бедуинские племена для борьбы с Шийтской и Османской угрозой. Второй раз сходный процесс начался в начале 20-го века и направлен был он опять таки против влияния Османского империализма. Тогда инициатором объединения выступила Великобритания, т.к. нефтяная эпоха на Арабском Востоке уже вступала в свои права. В результате были созданы Саудовская Аравия и ряд других арабских государств, которые с самого начала подпали под влияние Запада. Сегодня налицо процесс объединения сторонников суннитов-ханбалитов. Он преследует две основные стратегические цели – попытку создания объединённого арабского пространства, которое сможет вмешаться в глобальную игру и формирование новой энергетической политики. Характерной чертой этой третей попытки объединения является крайне маргинальный исламский радикализм. Поэтому весь мир с волнением наблюдает за этим процессом. На той территории, которую сегодня контролируют Исламисты, их безопасность весьма уязвима, поэтому они стараются расширить ареал своего влияния и создать новые очаги мусульманского радикализма в различных регионах, в которых существует для этого хоть какая-то почва. Северный Кавказ, вернее, Северо-Восточный регион (Ингушетия, Чечня и Дагестан ), по заявлениям Исламистов, является одним из перспективных направлений для разворачивания подобной деятельности. Подавляющее большинство населения здесь – это мусульмане-сунниты и традиции исламского фундаментализма и радикализма среди них довольно сильны. Для Грузии это представляет немалую опасность, ибо как минимум в трёх регионах – в Панкисском ущелье, в Аджарии и населённом азербаиджанцами анклаве у идеи Халифата есть свои приверженцы. Существует большая вероятность, что в близжайшем будущем в этих очагах начнуться маргинальные процессы.
Поскольку неудачные проекты «Арабской Весны повлекли за собой вышеописанные процессы, на данном этапе Запад воздерживается от прямого вмешательства в военные операции на суше. Если он по прежнему будет непосредственно учавствовать в конфликтах, это может оказаться дополнительным импульсом для формирования общеарабского маргинально-фундаменталистского пространства. Сегодня Запад старается устраниться и ожидает, что Арабский Мир сам расправиться с Исламским Халифатом. Это длительный процесс. По мнению госсекретаря США Дж. Керри, на это понадобится миннимум три года. Время же работает против Грузии.
3. Проект «Большого Турана» – объединение туркоязычных народов в единое военно-политическое, экономическое, религиозное и культурное пространство (по аналогии с Евросоюзом). Сегодня в него входят Турция, Азербайджан, Казахстан и Киргизия. На территории России туркоязычными народами считаются Адыгейцы, Балкары, Кипчаки, Карачайцы, Кумыки, Калмыки, Татары (в т.ч. Крымские) и Башкиры. В отношении всех этих народов, исповедующих ислам Ханифитского толка, у Турции есть свои планы. Политические силы этой страны, которые находятся у власти с 2004 года претендуют на лидерство в мусульманском мире и Большой Туран, по их замыслу, должен превратиться в нового глобального игрока. По всему видно, что эти силы пытаются проводить независимую от Запада политику. Грузия в данном регионе единственная нетуркоязычная страна и видится аномальным пятном в едином пространстве этого проекта. В результате политики Единого Национального Движения и лично Михаила Саакашвили, а также Реджеба Ердогана и его партии Справедливости, Грузия оказалась в весьма уязвимом положении в военно-политическом, экономическом, этническом и религиозно-культурном смысле. Существенно возрос риск ассимиляции нашей страны и народа с данным пространством. Сегодня Турция самый большой экономический партнёр Грузии, Ок. 65 тысячь граждан этой страны получили грузинское гражданство. Вместе с тем, несколько тысячь граждан Грузии азербайджанской национальности являются одновременно гражданами Азербайджана. Всё это увеличивает риск дисбаланса в этническом составе граждан нашей страны. Особо бросается в глаза религиозная и культурная экспансия. Хотя, после парламентских выборов 2012 года ситуация изменилась к лучшему и многие аспекты риска уменьшились почти до минимального, но, активная религиозно-культурная экспансия всё ещё представляет значительную опасность. Если государству удастся выработать правильную стратегию и задействовать факторы, которые будут полностью соответствовать нормам международного права, для неитрализации рисков, Грузия сможет играть роль связующего звена между Турцией и другими туркоязычными этносами, особенно, в экономической сфере. Это явится значительным стимулом для укрепления военно-политической и экономической мощи страны.
4. Карабахский Конфликт. Этот наполовину замороженный 26-летний конфликт в течении последних месяцев уподобился просыпающемуся вулкану. Последние события (инцидент с армянским вертолётом и интенсивные военные действия в прифронтовой полосе) свидетельствуют, что пассивное противостояние может перерасти в активную фазу. Не вызывает сомнений, что подобное развитие событий представляет большой риск для Грузии и прямо отразится на её положении. Неминуемо возрастёт риск миграции населения из ареала военных действий и ввязывания армянской диаспоры Самцхе-Джавахети в конфликт. Победа любой стороны в этом конфликте нарушит статус-кво сложившееся на Южном Кавказе и вызовет серъёзную дестабилизацию, которая, возможно, создаст угрозу и для границ Грузии. Не приходится сомневаться, что эта война выйдет за рамки локального конфликта и приобретёт региональные масштабы. С большой вероятностью, Россия будет косвенно стимулировать возобновление конфликта. Исходя из Кавказской политики нашего северного соседа, подобный вывод напрашивается сам собой.
И в заключение несколько фраз о процессах имеющих место в сегодняшней политике Грузии. Заявление Свободных Демократов о том, что курсу интеграции Грузии в евроатлантическое пространство грозит опасность, спровоцировали появление элементов кризисной ситуации в политической жизни и ощущения нестабильности как внутри страны, так и за рубежом. Насколько реальна подобная угроза, об этом можно будет судить по прошествии некоторого времени, после анализа последующих событий.
Однозначно, что роль флагмана радикализма направленного против России имела для нашей страны катастрофические последствия. Запад оказался не готов защитить нас, а у самой Грузии не было для этого никаких ресурсов. После октябрских выборов 2012 года, Запад однозначно потребовал от нас, чтобы Грузия перестала выполнять роль яблока раздора между двумя глобальными фигурами геополитической игры и строила свою политику интеграции с евроатлантическим пространством с непременным учётом этого требования. Данная задача была выполнена, но пока-что, без ответа остаётся вопрос – как должен протекать в дальнейшем процесс интеграции Грузии в европейское и евроатлантическое пространство, при том, что Россия открыто заявляет, что это представляет для неё большую опасность и поэтому она не допустит успешного продвижения нашей страны в данном направлении?! Неясно, какие защитные механизмы и гарантии может предоставить Запад для минимизации росийской угрозы. Этот вопрос весьма волнует грузинскую общественность. Свернули или не свернули мы с намеченного пути, это должна показать имплементация плана, принятого на Уельсском Саммите. Практическое осуществление данного документа должно начаться после министериала НАТО, проведение которого планируется в феврале 2015 года. Частичный ответ на этот вопрос может дать и анализ бюджета Министерства Обороны на 2015 год. Согласно документа Стратегического Обзора, который был принят в 2013 году бюджет Министерства должен был составить 700 миллионов лари, но в представленном проекте бюджета на 2015 год указано всего 640 миллионов лари. Но это ещё ни о чём не говорит, важно как будут распределены данные средства. Именно распределение покажет, считает ли правительство Грузии, что форсированное развитие событий содержит больший риск, чем растягивание темпов интеграции во времени – или наоборот. Тогда, наконец-то, появиться ответ на вопрос, который так актуален у нас и не только у нас.
Последние два года реформирование грузинской армии протекает по двум, совершенно различным направлениям. В плане соответствия стандартам НАТО достигнуты значительные успехи и по некоторым параметрам мы обогнали не только остальных партнёров, но и некоторых членов этой организации. Что же касается основной задачи вооружённых сил, которая заключается в защите суверенитета и границ страны, то тут похвалиться нечем. Грузинская армия самая слабая в регионе. Она даже теоретически не сможет противостоять агресии ни одной из соседних стран. Наше государство не готово к войне. Отсюда можно заключить, что решение данной задачи возлагается на политическое руководство страны и её стратегию внешней политики. Насколько эффективен такой подход, может показать только военная опасность, которая может возникнуть в будущем. Будем надеяться, что этот теоретический сценарий не осуществиться на практике.
Экс-министр обороны, уважаемый Давид Тевзадзе является автором совершенно нового термина, который, возможно, получит признание в военно-политической науке не только у нас, но и за рубежом. Этот термин – «стратегия безпринципности». Такие маленькие страны, как Грузия не имеют возможности вырабатывать стратегию развития государства исходя из собственных принципов. Они вынуждены подгонять свою стратегию под политику которые проводят супергосударства и глобальные военно- политические объединения.
Стратегия развития Грузии, которая будет направлена на неитрализацию региональных, субрегиональных и глобальных рисков и вызовов существующих на данном этапе и возможных в будущем, должна базироваться именно на этом принципе «безпринципности». Только тогда она может оказаться успешной.
Тамаз Имнаишвили
Руководитель Аналитического Центра Клуба Генералов Грузии,
эксперт по военно-политическим вопросам,
вице-полковник запаса