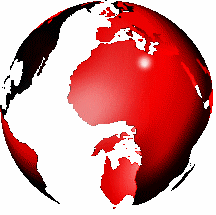1. Росийская опасность – общий взгляд
Сегодняшний политический лексикон (по крайней мере грузинский) по отношению к России использует терминологию, которая базируется всего на нескольких словах – таких как «враг», «оккупация», «опасность войны», «империя» и несколько других, им подобных. Всё это делается для того, чтобы убедить слушателей и читателей, что Россия сегодня ставит целью восстановление империи и последовательно претворяет это в жизнь.
СНГ, Союзное Государство России и Белоруссии, Договор по Коллективной Безопасности, Евразийское Экономическое Содружество, Таможенный Союз, Единое Экономическое пространство – эти и другие инициативы прямо подтверждают, что Россия преследует именно эту цель. События 2008 года на Кавказе (в Грузии) и 2013-2014 гг. в Украине свидетельствуют, что для претворения в жизнь задуманного, она готова действовать самым радикальным образом. С первого взгляда кажется, что она не так уж далека от этого и данное обстоятельство ставит под сомнение реализацию всех национальных проектов (по крайней мере для Грузии), включая проект суверенного, национального государства. Исходя из этого, делается вывод, что Россия является основной угрозой для нашей национальной безопасности и прилагается максимум усилий для её неитрализации. Но, все до сих предпринятые в данном направлении шаги явно неэффективны и видимо, будут оставаться таковыми, пока мы реально не поимём мотивы которые принуждают Россию вести себя подобным образом. Именно поэтому, нам кажется необходимым постараться разобраться в том, что по мнению самой России (т.е. её руководства) является для неё угрозой, иными словами – какие «страхи» побуждают Россию действовать так, а не иначе.
2. Угрозы для России
А) Официальный взгляд
Согласно Стратегии Национальной Безопасности и Военной Доктрине России(www.scrf.gov.ru), военная угроза делиться на внутренюю и внешнюю угрозы. Внешняя угроза определяется на западе присутствием у её границ НАТО, а на востоке соседством с Китаем. Что касается южных рубежей, то здесь России уже на протяжении многих лет удаётся сохранять взрывоопасную обстановку за счёт старых, «замороженных» и потенциальных новых конфликтов.
Со стороны НАТО основными угрозами считаются:
1. Расширение Альянса на Восток и его приближение к границам России.
2. Появление контингентов НАТО и использование его военных сил в странах граничащих с Россией.
3. Создание стратегических противоракетных систем и их развёртывание в непосредственной близости от росийских границ.
Несмотря на то, что в документе Китай прямо не упоминается, очевидно, что угрозами с его стороны считаются:
1. Широкомасштабные военные учения периодически проводимые у границ России.
2. Территориальное видение региона, которое подразумевает территориальные претензии к России.
Из внутренних угроз, на первом месте – страх дезинтеграции (разумеется, при помощи вмешательства внешних сил) и перспектива смены конституционного строя.
Б) Экспертная оценка
По мнению росийских военных аналитиков, главными проблемами для России являются – адекватный военный потенциал, демография и т.н. «стратегическое одиночество».
Б.1) Проблема военного потенциала
Несмотря на то, что в официальных документах Китай, как источник военной угрозы прямо не упоминается, большинство росийских военных экспертов считают, что после 10-15 лет именно эта страна будет представлять наибольшую опасность для России. По мнению эксперта Дмитрия Тренина (http:/flot.com/nowadays/concept/opposite/usanalitics1) к этому периоду Китай и США превратяться в стратегических противников и Россия должна будет стараться сохранить статус независимого игрока и не подпасть под влияние этих «суперсил».
Как достичь этого? Для этого необходимо будет провести военную реформу. О завершении её первого этапа ещё в 2009 году заявил Дмитрий Медведев, который тогда являлся президентом страны. Тогда многие эксперты объясняли подобную поспешность недостатками, выявленными в ходе кампании 2008 года. Возможно, в этом есть доля правды, хотя мнение, что состояние росийских вооружённых сил неадекватно по отношению к военным угрозам существует давно и отнюдь не Кавказский вояж способствовал его возникновению.
Реформа прежде всего коснулась военно- административной сферы. Её целью являлась оптимизация структуры управления. Шесть военных округов были заменены четырьмя Оперативно-Стратегическими Командованиями (ОСК)(?) – Восточным, Западным, Центральным и Южным. В состав новых подразделении вошли не только сухопутные силы, но и авиационные и все четыре военно морских флота, а также Каспийская флотилия.
Вместе с тем, в прямом подчинении Москвы остались ракетные войска стратегического назначения, атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, космические военные силы, дальняя авиация и военно-десантные силы. По мнению экспертов, при наличии тех скудных средств, которыми располагает Министерство Обороны, подобная реорганизация наиболее эффективна.
Анализируя численность и состояние сил, сосредоточенных во всех четырёх Kомандованиях, заместитель директора Института Политического и Военного Анализа Александр Храмчихин полагает, что росийские сухопутные военные подразделения смогут осуществлять более или менее успешные оборонные мероприятия только в южном и центральном округах, несмотря на то, что ОСК «Центр» является наиболее слабым по своему составу и вооружению. Что касается запада и востока, то сосредоточенные здесь военные силы невозможно даже реально сравнить с силами потенциальных противников, ввиду их значительного преимущества в количестве и качестве. Несмотря на то, что НАТО никогда не нападёт на Россию (в этом Храмчихин не сомневается), ситуация остаётся весьма серъёзной. Китай сегодня сильнее России и сил НАТО, расположенных в Европе, и что главнее всего, демонстрирует готовность к войне. Есть у него и мотивация – напр. Китай считает, что договоры заключённые с Россией в XIX веке кабальны и несправедливы и базой для переговоров по урегулированию территориальных вопросов должен служить Нерчинский Договор 1689 года.
Отдельно нужно коснуться темы состояния флота. По мнению бывшего руководителя Северного флота, адмирала Попова, росийские военно-морские силы постепенно утрачивают статус океанского флота и трансформируются в прибрежный флот, имеющий ограниченные возможности. Политические и геополитические последствия этого грядут обязательно (http:/nvo.ng.ru/). По заключению экспертов, по данным 2010 года, по регионам, росийский флот уступал шведскому и финскому в два раза, германскому – в три-четыре раза, турецкому – в два раза, французскому и британскому – в пять-шесть раз, флоту США – в двадцать-тридцать раз, а на Дальнем Востоке Россия имела в три раза меньше надводных кораблей, чем Япония.
Имея такое соотношение, Россия «вынуждена» допустить возможность превентивного ядерного удара. Из этого следует, что борющаяся за свой жизненные интересы, «обессиленая» Россия, ещё более опасна.
По официальной доктрине 2010 года, первейшей угрозой для России является НАТО, но, по мнению экспертов Института Политического и Военного Анализа, основными угрозами являются Китай, исламский экстремизм и Кавказ (ratmistr.livejournal.com).
Китай. Ожидается, что эта угроза актуализируется в двадцатых годах нынешнего столетия и к этому периоду Россия должна располагать необходимыми ресурсами для её сдерживания. Наличие ресурсов подразумевает не только существование адекватных для сдерживания сил на Востоке, но и возможность быстрой переброски их из других регионов, в случае необходимости. Проблема эта будет решаема, если угрозы на всех других направлениях будут минимизированы и мир будет прочным.
Угроза исламского экстремизма. По мнению аналитиков, данная угроза актуализируется после того, как закончится операция НАТО в Афганистане и возможно, это пройзойдёт уже в конце нынешней декады. Александр Храмчихин замечает: «Если афганские Талибы войдут в Узбекистан, то нам придётся сражаться с ними в степях Казахстана». Следовательно, для России стратегически очень важен Среднеазиатский Регион, его ресурсы и гарантированная безопасность. В случае наступления необходимости решения первой задачи (создания возможностей для сдерживания Китая), Средняя Азия вовсе не является для неё гарантированно защищённым флангом. Именно поэтому Россия должна преложить максимум усилий для того, чтобы решить эту проблему.
Б.2 Демографические проблемы
Русский этнос: В феврале 2009 года член Новосибирского отделения Петровской Академии Науки и Исскуства Владимир Гетманов выступил на заседании со скандальным докладом «Технология русской смерти» (http://derzava.com).Наряду со статистикой рождаемости и смертности в докладе были приведён анализ социальных обстоятельств. Приведём некоторые данные:
Географический ареал, в котором население уменьшается, в основном, охватывает регионы населённые русским этносом. Гетманов приводит данные первой всеросийской переписи населения 2002 года. Согласно им, в Псковской области на каждую тысячу населения зафиксировано 8.4 случаев рождаемости и 23.6 случаев смертности. Иными словами, на каждого новорожденного приходилось три смертных случая. Коэффициент естественной убыли населения составил 15.2. Аналогичная ситуация наблюдалась в Тульской области и в Твери (14.4 и 14.6). Сходное положение наблюдается в аграрных районах и малых городах (с 8-50 тысячами населения). По мнению докладчика, эти регионы и города в скором времени совершенно опустеют. Однако, численность населения растёт в богатых сибирских регионах, в крупных городах и на Северном Кавказе, но статистика не учитывает национальный состав населения, поэтому трудно сказать за счёт каких этносов идёт прибавление. Более того, можно с уверенность сказать, что за исключением Северного Кавказа, иммигранты составляют львиную долю переселившихся и возникает весьма интересный вопрос – насколько русской является сегодня Россия?
Нерусские этносы: Среди мигрантов, которые из различных регионов переселяются в Россию, кроме граждан СНГ, есть граждане Китая, Вьетнама, Турции, различных африканских стран. Точных данных не существует и поэтому трудно сказать, представители каких этносов преобладают. Предположительно, это китайцы и жители стран Юго-Восточной Азии, хотя, сам Гетманов, а также другие специалисты больше склоняются к мысли, что население растёт преимущественно за счёт внутренней миграции. Причина одна: парралельно уменьшению русского этноса, растёт численность нерусского, главным образом мусульманского населения. Из ареалов традиционного расселения оно «перетекает» в русские регионы. Гетманов проанализировал векторы этого «перетекания». Интересно, что, согласно его исследованию, традиционный для Северного Кавказа Краснодарский и Ставропольский вектор постепенно сменяется сибирским ареалом. Парралельно, идёт процесс «мягкого изгнания» русского этноса из окраинных регионов.
Русская армия – «Иностранный легион» – данный термин также принадлежит Гетманову. Дело в том, что из-за демографического кризиса, зачисление мигрантов в росиийскую армию на контрактной основе облегчено настолько, что драматически меняется её этнический и конфессиональный состав, в т.ч. в её элитных частях. Некоторые специалисты считают, что к 2015 году большинство солдат и офицеров росийской армии будут мусульманами (http:/www.rf-agency.ru/acn/stat_ru). Известно, что уже сегодня одну треть московской полиции составляют мигранты (http:/derzava.com/). По даннм ООН (http:/www.rf-agency.ru/can/stat_ru/), к середине нынешнего столетия население Йемена (прибл. 22 миллиона чел. в 2010 году) перегонит по численности население России. По мнению же аналитиков Кризисного Центра Массачусетса, при численности населения, меньшем чем 50 миллионов, контролировать территорию России прктически будет невозможно (см. тамже).
Б.3 Стратегическое одиночество
Отдельного внимания требует тема «стратегического одиночества» России (Тренин). Ей всё труднее находить союзников и она фактически, остаётся наедине, лицом к лицу со своими проблемами. По словам генерала армии Махмуда Гиреева, Россия оказалась в одиночестве даже в таком «незначительном вопросе» как признание независимости Абхазии и Южной Осетии (ratmistr.livejournal.com). Действительно, как сможет Россия найдти союзников, если её пространственные интересы в большей мере совпадают с интересами других глобальных игроков? Стратегическое одиночество порождает чувство стратегической незащищённости.
3. Национализм и стратегическая головоломка, которую пытается решить Россия
С распадом Советского Союза в Восточной Европе и Азии начался процесс формирования новых национальных государств. С тех пор прошло более двадцати лет, но, процесс этот всё ещё находится в начальной стадии и сегодня пока ещё трудно сказать какую конфигурацию примет карта Евразии в стадии его завершения. Иными словами – несмотря на то, что на первый взгляд, СССР распался мирным путём и границы распада тоже не вызывали особых споров, только очень наивные люди могут полагать, что процесс образования новых государств закончится на этом. Конфликты Приднестровья, Карабаха, Абхазии и Южной Осетии, на самом деле, являются лишь начальной фазой перекройки карты Евразии и причиной этого является не только «недружественная» политика России.
Возникновение новых государств – это многоплановый процесс и его идеологической рамкой является национализм (во всяком случае, так было до сих пор). Яркими примерами тому являются Европа после Вестфальского Мира, антиколониальное движение в Азии и Африке и распад Советского Союза. Все эти процессы протекали под знаменем национальной исключительности – идеологической основой самоопределения. Национализм настолько сильно воздействует на умы людей, что на его фоне бледнеют все проблемы, которые способны расколоть общество и охваченное чувством всеобщего единения оно кладёт на весы истории всё, чем обладает, ради сохранения национальной идентичности. Несмотря на все идеологические клише, которые формировали различные универсалистские теории, нетрудно убедиться, что за последние четыреста-пятсот лет именно национализм, чувство превосходства над другими народами, являлись главной движущей силой исторического процесса. Из этого можно сделать одно, весьма неприятное заключение: постсоциалистическое пространство (которое не полностью совпадает с постсоветским пространством) на данном историческом этапе развития грозит превратиться в арену длительного, жестого противостояния. Результатом этого может стать новая карта Евразийского пространства. Исходя из вышесказанного необходимо подчеркнуть несколько моментов:
1. Большая часть Евразийского пространства – его постсоветский регион - в близжайшем (или сравнительно близком) будущем могут превратиться в потенциальную арену борьбы за перераспределение территорий, с явным или скрытым участием соседних стран (европейских государств, Китая, Ирана, Турции), или «внешних игроков» (США). Исходя из исторической ретроспективы, можно заключить, что это естественный процесс.
2. Все признаные и непризнанные государственные образования постараются извлечь собственные дивиденты из этого явления и это тоже естественный процесс.
3. Господствующим клише в данном пространстве будет маскирующийся под жизненные интересы национализм. Порой он может также принимать форму конфессиональной нетерпимости.
Это не пессимистический прогноз, а реальность, признаки которой сразу становятся заметны при внимательном рассмотрении.
Россия является одним из основных факторов данного процесса, но, далеко не единственным. В близжайшем будущем ей предстоит решить три важные стратегические задачи:
1. Надёжно сохранить за собой и по возможности упрочить нынешний статус одного из полюсов в сегодняшнем многополюсном мире.
2. Избавиться от унизительного положения сыръевого придатка Запада, в котором она оказалась после распада Советского Союза.
3. Распространить своё реальное влияние на Евразийское. т.е постсоветское пространство.
В более отдалённой перспективе, опираясь на это, Россия расчитывает восстановить статус одного из глобальных игроков, наподобие Советского Союза в период холодной войны. Сегодня мы не будем углубляться в рассуждения о том, насколько реальны эти задачи, но постараемся проследить какие шаги предпринимаются в этом направлении.
В октябре 2011 года была опубликована статья Владимира Путина «Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня». Она касается создания единого экономического пространства для России, Белорусии и Казахстана с 1-го января 2012 года. Из неё следует, что упомянутый проект зародился двадцать лет назад и началом его нужно считать создание СНГ. Последующиеми шагами на пути его реализации явились Росийско-Белорусское союзное государство, договор по коллективной безопасности, Евразийское Экономическое Содружество и единое экономическое пространство. Если это соответствует действительности, то получается, что на протяжении всех двадцати лет росийская внешняя политика, вовсе не являлась непоследовательной (в чём её часто обвиняли и обвиняют), наоборот – Россия шаг за шагом осуществляла свои стратегические задачи, о которых мы постарались рассказать выше.
Итоги:
А) 2008 год – Грузия. Для постсоветских стран априоре было очевидно, что Россия постарается тем или иным способом восстановить своё влияние в Евразийском пространстве. Неясно было только одно – чем будут мотивированы данные действия. Основным мотивом действий России в 2008 году в Грузии принято считать т.н. «имперские амбиции», но подобная формулировка не до конца объясняет её действия. Например, непонятно почему Россия так легко уступила Прибалтику, но сражалась до конца с Грузией. Но, если проанализировать события с точки зрения «стратегической незащищённости», то всё встаёт на свои места.
После распада Советского Союза для России стало очевидно, что реальную силу в Евразии представляет не она, а Китай, хотя, этому государству требуется определённое время для того, чтобы в полный голос заявить о своих претензиях. Угроза с китайской стороны вполне реальна, но, она не может быть реализована в близжайшем будущем. На сегодняшний день самой актуальной представляется опасность исходящая из Среднеазиатского региона. Необустроенная граница длиною в 7 000 километров ещё более обостряет эту проблему. На этом фоне беспорядки на Кавказе (как Северном, так и Южном) грозят России дезинтеграцией. Неким психологическим считом для неё являются расположенные здесь военные базы, но вывод последних из Грузии проделал в нём серъёзную брешь. Именно поэтому восстановление уверенности в безопасности и максимально эффективная нейтрализация проблем на правом фланге является сиюминутной стратегической задачей для России. А она само собой подразумевает исключение Грузии из «вражеского окружения».
В отношении Прибалтики Россия не беспокоится, ибо дезинтеграция её из Балтии практически невозможна, а НАТО, несмотря на его преимущество в европейском пространстве, не обладает политической волей чтобы воевать с ней. Существует множество механизмов исключения Грузии из «вражеского окружения» (союз, партнёрство, влияние, дипломатическое давление, угроза, вынуждение и наконец война), но, при игнорировании общих интересов, военное вмешательство в процессы на территории Грузии под любым предлогом оказалось единственной альтернативой. На фоне возрастающей опасности с Востока, Россия никак не могла оставить без внимания свой южный фланг грозящий ей дезинтеграцией. В результате мы получили две военные базы на оккупированной территории, как сдерживающий фактор дезинтеграции России.
Б) 2014 год – Украина. После того, как Россия определила возможности осуществления своих стратегических задач (после 2008 года), логика развития событий потребовала от неё последующих шагов в том же направлении. Одним из них могла оказаться реальная интеграция с «новым», т.н. Евразийским пространством и посредством этого «обнуление» проблем, о которых мы упомянули выше. Наиважнейшим подспорьем для России является присущий данному пространству демографический ресурс, который позволит хоть как-то выправить баланс на центральных и восточных направлениях. Последовательное решение данной задачи, окончательное реформирование армии, реализация экономического потенциала и другие, неотложные, но пока остающиеся без внимания проблемы требуют немалых усилий и временных затрат. Рациональная модель использования данных факторов исключает иницирование со стороны России какой-либо войны, или приближённых к ней сценариев. Такая модель послужила бы мощным тормозом для её планов. Иными словами, любое военное противостояние растроило бы основную стратегическую систему России и оказалось бы для неё невыгодной.
На этом фоне, с первого взгляда, происходящие в Украине события выпадают из общего контекста. Почему Россия повернулась спиной к Западу? Зачем ей понадобилось аннексировать Крым и провоцировать управляемый хаос на юго-западе страны? Ответы на эти вопросы, как и в случае с Грузией, кроются в синдроме незащищённости и стратегическом одиночестве. Как известно, в украинском вопросе Китай поддерживает Россию. Причиной этого является не симпатия «Поднебесной» к ней, а опасение, что текущие процессы будут способствовать ещё большему усилению Соединнёных Штатов. Партнёрство Китая и России стимулирует конфронтацию России и США. В конечном счёте, оно должно повлечь за собой ослабление обоих.
Что касается самой Украины, то её отторжение от русского геополитического пространства, в краткосрочной перспективе не может повлечь за собой дезинтеграцию России. Хотя, если это случится, Россия превратится в преимущественно азиатскую страну – наподобие Турции и её оборонная структура на западном направлении потеряет всякое значение. Такое развитие событий ставит под удар и её южное направление, т.к. создаёт предпосылки для её изгнания из региона и обнажает южный фланг. Тогда России придётся пойдти по новому кругу. С учётом вышесказанного, аннексия Крыма выглядит вполне логично. Он приобретает функцию, аналогичную функции Калининградской области в Прибалтике.
Перспектива
Официальная росийская доктринальная версия военных опасностей выглядит довольно убедительно. Согласно ей, на данном этапе, военно-стратегической задачей России является обеспечение надёжного фланга и тыла для Центрального округа. Для этого необходимо:
1. Создание устойчивой коммуникационной линии с Крымом.
2. Интеграция Крыма и Закавказья в единое стратегическое пространство.
А это значит, что - а) Россия должна активно действовать на украинском направлении. Это необходимо для того, чтобы принудить Украину обеспечить ей коридор. б) После решения данной задачи, Россия постарается реализовать Крымско-Закавказскую линию. Хотя, эти задачи взаимозаменяемы во времени и при форсмажорных обстоятельства, вторая задача может выдвинуться на первое место. Вся подготовительная работа, необходимая для этого, уже проведена, а форсмажор может настать и в том случае, если существующая ныне в Украине ситуация не разрешится в скором времени.
Исходя из этого, вполне логично напрашивается вопрос – что может предпринять Грузия для предотвращения ожидаемой прямой агрессии? На первый взгляд, ситуация тупиковая – если ничего не измениться, рано или поздно, Грузия обязательно станет объектом реализации росийской военной стратегии. Она располагает очень небольшим временем для политического манёвра и этот срок прямо зависит от украинских событий.
Ускоренное подписание договора ассоциации с Евросоюзом, фактически, мало что меняет, как и начало процедур вступления Грузии в Евроатлантический Альянс (если даже это случится в близжайшем будущем, что само по себе весьма проблематично). Ничего не изменит и размещение на территории Грузии новых систем вооружения. Даже наоборот – это будет способствовать лишь росту иллюзий и может спровоцировать нас на новые, непродуманные действия (так, как это произошло в 2008 году). По всей видимости, формирование политики по отношению к России, это тот фарватер, который Грузия должна пройдти одна – без чужой помощи. Она должна убедить Россию,что её южный фланг защищён надёжно и дополнительные усилия для его укрепления не требуются.
Иными словами, Россия должна убедиться, что Южный Кавказ не только сегодня не является для неё дезинтегрирующим фактором, но и в будущем принципиально не будет таковым. Именно в последнем Россия не уверена и это побуждает её действовать так, как она действует сегодня.
На этом важнейшем постулате должен быть основан алгоритм отношений с Россией. Он должен определять стратегию внешней политики. Значит ли это, что мы должны свернуть с европейского пути? Никоим образом! Более того, игнорирование интересов России вовсе не является сближающим нас с Европой фактором. Если мы хотим отобрать у России инициативу и ослабить её влияние на политические процессы, мы всячески должны стараться не давать ей возможность выставлять себя жертвой, даже если она сама будет создавать поводы для этого. Означает ли это, что мы должны всё уступить России? Конечно, не означает! Хотя, для такой политики требуется глубокое стратегическое мышление и серъёзные дипломатические усилия.
Сможет ли грузинская политическая элита справиться с данной задачей?! Вопрос этот пока что остаётся открытым.
Давид Тевзадзе