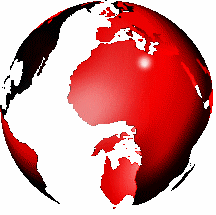Николай Силаев, старший научный сотрудник Центра Кавказских исследований МГИМО:
Николай Силаев, старший научный сотрудник Центра Кавказских исследований МГИМО:
Большое спасибо. Разрешите вас приветствовать. Нана рассказала историю появления этого доклада. Он основывается на исследовании, которое было проведено в прошлом году, в рамках которого были взяты интервью у нескольких десятков активистов этнических движении, на северном Кавказе у представителей региональных властей и доклад представляет собой попытку сделать выводы из этого исследования применительно к той ситуации, которая есть в Российско-Грузинских отношениях и в подходах двух стран в контексте региона. И если можно я кратко изложу эти выводы. Главное, что я хотел сказать это то, что вся та картина, которую принято именовать «Черкесским вопросом» сложнее чем это обычно принято обсуждать. С одной стороны, если говорить о проблематике этнических движении в России, и это относится не только к черкесско-этническому движению. Экономический рост и урбанизация 2000-ых годов повлекли за собой сильные эмиграционные потоки, при чем и из деревни в город, на Северном Кавказе это касается скорее всех постсоветских 20-и лет и с Северного Кавказа в другие Российские регионы. Это с одной стороны усилило процесс ассимиляции, а с другой стороны создало ситуацию, когда этническая идентичность этническая самобытность сталкивались с какими-то новыми вызовами и сталкиваясь с этими новыми вызовами, они приобретали какую-то новую динамику, новый импульс. Кроме того, это свойство всех наверное всех постсоветских обществ это то, что в этих обществах не хватает структур солидарности которые выходили бы за рамки солидарности, связанной с общим этническим происхождением, или с семьей. И в этой ситуации особую значимость приобретают те, если угодно, простые неотъемлемые идентичности, которые людям свойственны кровь, культура, семья и такого рода вещи. И то, что несмотря на то, что советской национальной политики не существует уже около двадцати лет тем не менее значимость этнического фактора в публичной политике остается высоким, это на мой взгляд следствие вот как раз этой особенности постсоветского развития. Кроме того, появление интернета социальных сетей упростила трансляцию этих идентичностей и если угодно упростила сам процесс становления новых этнических движении и упростила их деятельность сделала ее дешевой быстрой и эффективной. Еще о чем на мой взгляд нужно упомянуть, это особенности политики федеральных властей, при чем я бы сказал, что эти свойства не менялись в течении всех двух постсоветских десятилетии, с одной стороны после парада суверенитетов. Москва традиционно с опаской смотрит на этнические движения, с другой стороны для федерального центра всегда оставался и остается императивом разнообразие страны, в том числе и этническо-культурная. И наконец для федеральных властей в данный момент приобрело в их политическом курсе приобрел большой вес такой процесс собирания полномочии в центр и финансовых ресурсов властных ресурсов с одной стороны, а с другой стороны попытки такой большей унификации страны на уровне символическом, ну это касается например, сокращения регионального компонента в школьном образовании и тому подобные вещи, и при этомхотя федеральные власти добились многого в этой символической унификации хуже дело обстоит с созданием единого политического и правового пространства, по всему масштабу страны, почему потому, что это касается не только северного кавказа оказалось, что это процесс более сложный, чем например, реформа школьного образования и поэтому с одной стороны, здесь возникает какое-то напряжение связанное с подходами к тому же школьному образованию а с другой стороны существует, всегда существует определенная степень свободы, которой пользуются региональные элиты, при чем не только на северном Кавказе и этой свободой они пользуются и в том числе и в смысле проведения своей культурной политики. И наконец, о чем еще необходимо упомянуть такие общие рамки в которой существует обсуждаемая проблема это то, что как и во всех прочих постсоветских обществах доступ к власти важен с точки зрения экономических перспектив того или иного агента и поэтому очень многие явления, которые могут не получать такого политического импульса в каких-то других обществах этот импульс получают. Поэтому, это один из факторов того что этническое остается значимым для политической жизни. Теперь собственно о черкесском национальном движении и о том контексте в котором оно существует. На практике игроков здесь гораздо больше чем условная Москва и условные черкесы. Потому что помимо федеральных властей есть администрации республик Северного Кавказа, это Кабардино-Балкария, это Адигея и это Карачаево-Черкессия, хотя она сильно отличается от двух других республик. Есть активисты черкесского этнического движения признанные в качестве таковых региональными властями. Есть активисты в таком качестве непризнанные. Кроме того, есть другие этнические движения и каждый раз, когда то или иное событие, например, как предстоящая олимпиада в Сочи или перспектива обьеденения республики Адигея с Краснодарским краем начинают осбуждаться, попадают в поле политической дисскусии возникает очень сложная динамика в которой так или иначе учавствуют все эти игроки. При чем мотивация например, региональных администрации могут быть достаточно сложными, потому что с одной стороны им важно продемонстрировать федеральному центру свою способность контролировать ситуация на месте, с другой стороны любое этноческое движение, которое они осознают как свое или отчасти свое, может для них служить инструментом торга в отношении с федеральным центром и в конечном счете оказывается, что они тоже заинтересованы прямо или косвенно, в политизации этой темы. Официальные активисты признаны в таковом качестве решиональными и/или федеральными властями с одной стороны должны демонстрировать свою принципиальность и преверженность идеалам того этнического движения, которое они представляют а с другой соторны они испытывают конкуренцию со стороны активистов оппозиционных властям, и кроме того, они должны демонстрировать и свою лояльность региональным властям и в то же время свою принципиальность в отстаивании своих политических позиции. И наконец, есть еще другие этнические движения, которые так уж сложились обстоятельства, оказались в тени по крайней мере с точки зрения публичной политики оказались в тени движения черкесского и понятно, что активизация например, черкесских этнических организации вызывает и активизацию иных этнических движении, просто по тому принципу, что во первых создается прецедент, а во вторых эта активизация может восприниматся другими этническими движениями как угроза. И последнее, о чем я хотел упомянуть, это эволюция политики федеральных властей в отношении черкесского вопроса, которая сама по себе из вне мало заметна, но она оказалась довольно сильной. Если первоначально, в середине 2000-х годов, власти стремились скорее воспроизвести старые советские подходы, когда произошло довольно затратное празднование 450 летия вхождения Кабардино-Балкарии и Адигеи, что выглядело как анахронизм, в состав России и это празднование вызвало возражение историков, что важно подчеркнуть и на Северном Кавказе и в Москве, то в последствие политика стала более тонкой дипломатичной и дифференцированной, потому что с одной стороны через такие структуры, как Россотрудничество, через университеты, через научно-исследовательские институты, власти начали активно устанавливать контакты с черкесскими диаспорами зарубежом, да и с теми организациями, которые действуют на территории России. В этом смысле, диалог между властями и черкесскими этническими движениями, никогда не прекращался. А с другой стороны власти приложили определенные усилия к тому, чтобы попытатся изолировать вопросы этноческой самобытности развития этнической культуры, развития связи с диаспорой от политизации и приложили усилия к тому, чтобы избежать этой политизации. В итоге, например, власти очень сдержанно реагировали на призывы организовать переселение сирииско-черкесской диаспоры на Северный Кавказ, но с другой стороны, ну это было когда проходила соответствующая публичная компания, но с другой стороны во многом с подачи федеральных властей было организовано, было расширино обучение студентов черкесов из Сирии в Российских университетах. И в итоге, на мой взгляд, к моменту приведения олимпиады в Сочи, в общем похоже, что федеральный центр эта политика федерального центра будет иметь какие-то результаты а именно результаты в виде де-политизации черкесского вопроса и если можно так выразится, в целом снижение драматизма этого сюжета. Спасибо.